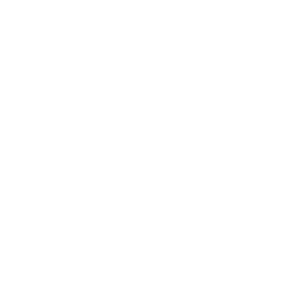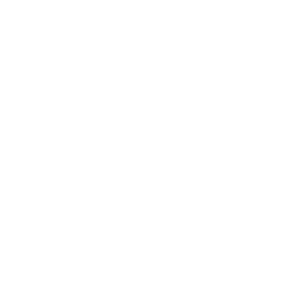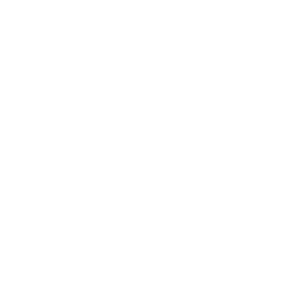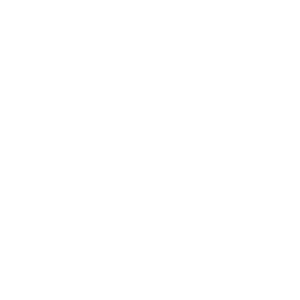Полвека назад, в 1971 году, после
двух лет принудительного лечения из психиатрической больницы общего типа в Риге был выписан Илья
Рипс. Ему было всего 22 года. Его госпитализировали 9 апреля 1969 года, когда он, студент
физмата Латвийского университета, предпринял попытку самосожжения у памятника Свободы в
Риге.
Так Рипс выразил свой протест против вторжения
войск Варшавского договора в Чехословакию, положившего конец либеральным реформам Пражской
весны.
Сейчас профессор математики Элиягу Рипс живет в Иерусалиме. Автор Rus.LSM.lv в Израиле Роман Янушевский встретился с ним — расспросить, как тот сегодня объясняет свой тогдашний отчаянный шаг, как сложилась его дальнейшая судьба, как он, атеист-математик, стал глубоко верующим человеком и как разрешил противоречие между наукой и религией, а также какие тайные коды, зашифрованные в тексте Библии, сумел прочесть с помощью современных компьютерных алгоритмов.
Сейчас профессор математики Элиягу Рипс живет в Иерусалиме. Автор Rus.LSM.lv в Израиле Роман Янушевский встретился с ним — расспросить, как тот сегодня объясняет свой тогдашний отчаянный шаг, как сложилась его дальнейшая судьба, как он, атеист-математик, стал глубоко верующим человеком и как разрешил противоречие между наукой и религией, а также какие тайные коды, зашифрованные в тексте Библии, сумел прочесть с помощью современных компьютерных алгоритмов.
Сейчас вместе с женой Дворой, которая не
говорит по-русски, Элиягу Рипс живет в иерусалимском квартале Рамот с преимущественно
религиозным населением. Он не раскрывает, сколько у него детей и внуков, и наотрез отказывается
обсуждать политику. О себе рассказывает охотно.
Даже зная адрес, найти его дом оказалось непросто. Пришлось попетлять по знойным уютным иерусалимским дворикам — пока местные не указали нужную лестницу, ведущую вниз между домами. По ней-то и можно попасть в квартирку профессора Рипса. В гостиной скромная обстановка, и ее центральный элемент — большой шкаф с религиозными текстами и книгами по иудаике.
Даже зная адрес, найти его дом оказалось непросто. Пришлось попетлять по знойным уютным иерусалимским дворикам — пока местные не указали нужную лестницу, ведущую вниз между домами. По ней-то и можно попасть в квартирку профессора Рипса. В гостиной скромная обстановка, и ее центральный элемент — большой шкаф с религиозными текстами и книгами по иудаике.
— Мой покойный отец — из Белоруссии, —
рассказывает Элиягу Рипс. — В 1941 году, как только началась война, он ушел в армию и воевал до
конца. Служил в пехоте, занимался картографией. Начал войну красноармейцем, завершил
лейтенантом. Вся его первая семья и родители погибли в Белоруссии. Когда в конце войны он
демобилизовался в Латвии, ему просто некуда было возвращаться. Он остался в Риге.
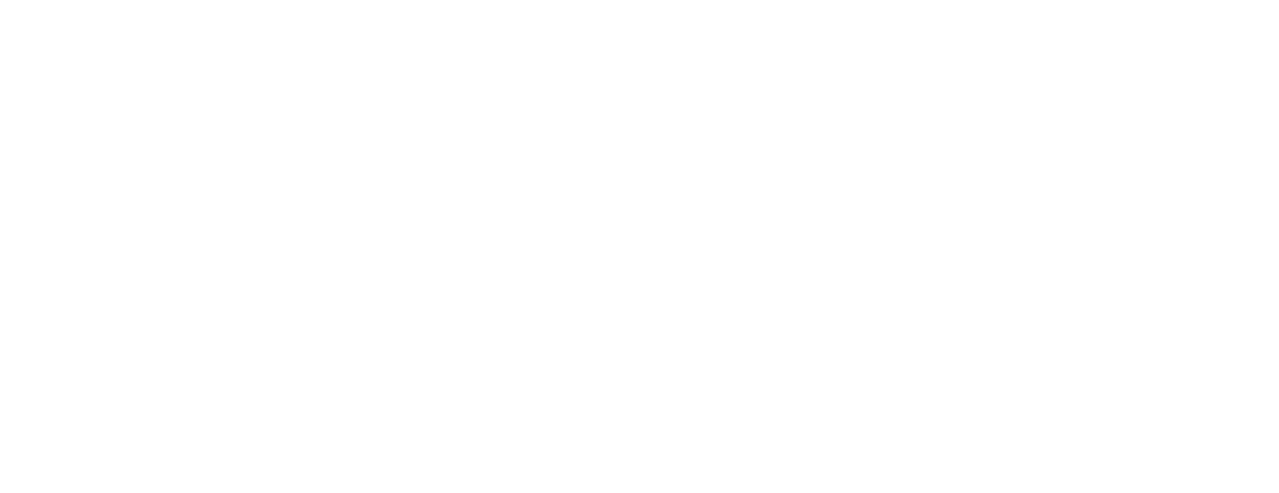
Слева направо: родители (1948 г.), отец (без даты), отец (1946 г.),
мать (без даты).
Снимки предоставлены Элиягу (Ильей) Рипсом.
Снимки предоставлены Элиягу (Ильей) Рипсом.
Со стороны матери мы жили в Риге очень долго,
несколько сотен лет. Так что наша семья — коренная рижская. Когда началась война, то бабушка,
моя мама Циля Исаковна и некоторые из ее восьми братьев и сестер успели эвакуироваться в
Чебоксары. Там было очень трудно, но все-таки можно было выжить. А покойный дедушка и остальные
братья и сестры не успели убежать. Это был вопрос получаса… Все они погибли. Из девяти братьев и
сестер выжили только моя мать, старший брат Йосиф, младшая сестра Сара и младший брат Лейб,
который тоже был в армии. Еще один брат, Бернард, был в Южной Африке. Он уехал туда в 30-е годы.
Из тех, кто остался в Риге, не выжил никто.
Они погибли в Румбульском лесу?
Не знаю. Когда в Латвии уничтожали евреев, это было, наверное, в декабре 41-го (не менее 25 тысяч в основном латвийских евреев были убиты в Румбульском лесу под Ригой 30 ноября и 8 декабря 1941 года; это было крупнейшее массовое убийство в истории Латвии, массовые расстрелы, однако, проводились и в других местах — в частности, в рижском Бикерниекском лесу и в провинции. — Rus.LSM.lv.). Где точное место их захоронения, я не знаю.
А вы не пытались искать в архивах? Не интересовались?
Тогда было советское время. С тех пор я еще не был в Латвии...
А хотели бы?
Может быть, когда-нибудь — да. Не сейчас, конечно. После «короны».
Вы говорите, что ваша семья жила в Латвии несколько веков.
Мы жили в Риге. Я это все знаю по рассказам. У нас был известный дальний родственник. Если не ошибаюсь, двоюродный брат покойного дедушки. Его фамилия была Нурок, раввин Мордехай Нурок, известный в Латвии деятель. Он заседал в Сейме. Потом он перебрался в Израиль и там стал депутатом Кнессета. Мы никогда не встречались, нашей встречи и не могло произойти — он сильно старше меня. Я навел справки и узнал, что в Бней-Браке (ультрарелигиозный пригород Тель-Авива. — Р.Я.) есть улица Нурока, в его честь.
У вас кто-нибудь из родственников в Латвии остался?
Когда мы уехали в конце 1971-го — начале 1972 года, там еще оставалась сестра матери Сара. Она в 1978 году переехала к нам в Израиль. Была еще семья младшего брата Лейбы, дяди Левы. Сам он скончался, но его жена и сын, мой двоюродный брат, живут в Латвии.
Они погибли в Румбульском лесу?
Не знаю. Когда в Латвии уничтожали евреев, это было, наверное, в декабре 41-го (не менее 25 тысяч в основном латвийских евреев были убиты в Румбульском лесу под Ригой 30 ноября и 8 декабря 1941 года; это было крупнейшее массовое убийство в истории Латвии, массовые расстрелы, однако, проводились и в других местах — в частности, в рижском Бикерниекском лесу и в провинции. — Rus.LSM.lv.). Где точное место их захоронения, я не знаю.
А вы не пытались искать в архивах? Не интересовались?
Тогда было советское время. С тех пор я еще не был в Латвии...
А хотели бы?
Может быть, когда-нибудь — да. Не сейчас, конечно. После «короны».
Вы говорите, что ваша семья жила в Латвии несколько веков.
Мы жили в Риге. Я это все знаю по рассказам. У нас был известный дальний родственник. Если не ошибаюсь, двоюродный брат покойного дедушки. Его фамилия была Нурок, раввин Мордехай Нурок, известный в Латвии деятель. Он заседал в Сейме. Потом он перебрался в Израиль и там стал депутатом Кнессета. Мы никогда не встречались, нашей встречи и не могло произойти — он сильно старше меня. Я навел справки и узнал, что в Бней-Браке (ультрарелигиозный пригород Тель-Авива. — Р.Я.) есть улица Нурока, в его честь.
У вас кто-нибудь из родственников в Латвии остался?
Когда мы уехали в конце 1971-го — начале 1972 года, там еще оставалась сестра матери Сара. Она в 1978 году переехала к нам в Израиль. Была еще семья младшего брата Лейбы, дяди Левы. Сам он скончался, но его жена и сын, мой двоюродный брат, живут в Латвии.
В какой культуре вас
воспитывали?
В советской: я был абсолютно советский мальчик с математическими способностями. Мой покойный отец был преподавателем математики. Так что я обучался ей со сравнительно малого возраста.
Вы ведь и школу окончили гораздо раньше, чем ваши сверстники?
Я два раза перепрыгивал через класс. Сразу пошел во второй, а потом перешел из 9-го в 11-й. Тогда была одиннадцатилетка. С 16 лет я начал учиться в университете на математическом факультете — на физмате Латвийского государственного университета.
У вас не было проблем с поступлением из-за «пятого пункта»?
Я лично никогда в Латвии не испытывал к себе враждебного отношения как к еврею. Участвовал в олимпиадах. Есть тур республиканский, потом всесоюзный, я прошел в международный тур (став первым советским школьником из Латвии, который смог добиться этого. — Р.Я.). Это была сборная Советского Союза, восемь участников. Из них я был младше всех и хуже всех. Там были асы. Все участники международного тура имели право поступать без экзаменов в любой вуз Советского Союза.
То есть у вас исключительная история на самом деле...
Конечно. Да.
Дома вы на каком языке разговаривали?
С родителями — на еврейском, на идиш. Но в школе его вытеснил русский. Сейчас я говорю на идиш, как восьмилетний ребенок. Позже выучил латышский.
У вас в семье было принято говорить о том, что произошло в войну?
Все время [говорили]. Ребенком я слышал рассказы о перенесенных родителями испытаниях. Это были голодные годы в какой-то деревне под Чебоксарами. Там их мобилизовали на лесозаготовки. Без подготовки, без профессиональной одежды, в ужасные условия… Это было очень тяжело. Моя тетя тогда весила 30 с чем-то килограммов. Но там хотя бы можно было выжить. Когда в 1944 году Советская армия освободила Ригу, они вернулись и с тех пор жили там.
Насколько было принято в семье говорить про Холокост?
Все время говорили о личных переживаниях. Но за пределами семьи, внутри советской культуры, этого не было. По существу, обсуждалось это с близкими друзьями и со знакомыми, которые прошли через то же самое. С теми, кто успел убежать и вернулся в Ригу.
Когда вернулись назад, им что-то удалось узнать о судьбе оставшихся и погибших?
Нет.
Чем вам запомнились школьные годы?
Все было нормально. У меня были очень хорошие отношения со всеми — с учителями, с учениками. В этом смысле 23-я средняя школа оставила самый положительный след. Я начал со второго класса в 22-й школе, потом с третьего класса перешел в 23-ю и там уже учился до конца. После школы я колебался — можно было поступить без экзамена в МГУ. Но мне тогда было всего 16 лет. Я, да и мои родители тоже, хотели, чтобы я был ближе к дому, и поэтому я остался в Риге. Я лично никогда не испытывал антисемитизма, до последнего момента был как бы окутан ватой. В университете я был ленинским стипендиатом, чуть ли не гордостью университета. Меня начали выводить в какие-то президиумы и так далее.
В советской: я был абсолютно советский мальчик с математическими способностями. Мой покойный отец был преподавателем математики. Так что я обучался ей со сравнительно малого возраста.
Вы ведь и школу окончили гораздо раньше, чем ваши сверстники?
Я два раза перепрыгивал через класс. Сразу пошел во второй, а потом перешел из 9-го в 11-й. Тогда была одиннадцатилетка. С 16 лет я начал учиться в университете на математическом факультете — на физмате Латвийского государственного университета.
У вас не было проблем с поступлением из-за «пятого пункта»?
Я лично никогда в Латвии не испытывал к себе враждебного отношения как к еврею. Участвовал в олимпиадах. Есть тур республиканский, потом всесоюзный, я прошел в международный тур (став первым советским школьником из Латвии, который смог добиться этого. — Р.Я.). Это была сборная Советского Союза, восемь участников. Из них я был младше всех и хуже всех. Там были асы. Все участники международного тура имели право поступать без экзаменов в любой вуз Советского Союза.
То есть у вас исключительная история на самом деле...
Конечно. Да.
Дома вы на каком языке разговаривали?
С родителями — на еврейском, на идиш. Но в школе его вытеснил русский. Сейчас я говорю на идиш, как восьмилетний ребенок. Позже выучил латышский.
У вас в семье было принято говорить о том, что произошло в войну?
Все время [говорили]. Ребенком я слышал рассказы о перенесенных родителями испытаниях. Это были голодные годы в какой-то деревне под Чебоксарами. Там их мобилизовали на лесозаготовки. Без подготовки, без профессиональной одежды, в ужасные условия… Это было очень тяжело. Моя тетя тогда весила 30 с чем-то килограммов. Но там хотя бы можно было выжить. Когда в 1944 году Советская армия освободила Ригу, они вернулись и с тех пор жили там.
Насколько было принято в семье говорить про Холокост?
Все время говорили о личных переживаниях. Но за пределами семьи, внутри советской культуры, этого не было. По существу, обсуждалось это с близкими друзьями и со знакомыми, которые прошли через то же самое. С теми, кто успел убежать и вернулся в Ригу.
Когда вернулись назад, им что-то удалось узнать о судьбе оставшихся и погибших?
Нет.
Чем вам запомнились школьные годы?
Все было нормально. У меня были очень хорошие отношения со всеми — с учителями, с учениками. В этом смысле 23-я средняя школа оставила самый положительный след. Я начал со второго класса в 22-й школе, потом с третьего класса перешел в 23-ю и там уже учился до конца. После школы я колебался — можно было поступить без экзамена в МГУ. Но мне тогда было всего 16 лет. Я, да и мои родители тоже, хотели, чтобы я был ближе к дому, и поэтому я остался в Риге. Я лично никогда не испытывал антисемитизма, до последнего момента был как бы окутан ватой. В университете я был ленинским стипендиатом, чуть ли не гордостью университета. Меня начали выводить в какие-то президиумы и так далее.
Насколько учеба в университете повлияла
на вас?
Как математик я сформировался именно в университете. Но и помимо математики я прослушал некоторые другие курсы. Все это, конечно, приятные воспоминания молодости.
До вашей попытки самосожжения у вас были какие-то «контакты» с КГБ? Может, вами интересовались?
Нет, ничего такого не было. Первым моим пробуждением и первым потрясением для меня стала Шестидневная война. Перед войной целый месяц над Израилем висела угроза со стороны Насера (президент Египта Гамаль Абдель Насер. — Р.Я.). И это было очень грозное время. Я помню, как все мы, и я тоже, испытывали тревогу. Потом произошла Шестидневная война и наступило ошеломление победой. Это воспринималось как чудо. Как избавление от совершенно реальной, очень сильной угрозы.
Как математик я сформировался именно в университете. Но и помимо математики я прослушал некоторые другие курсы. Все это, конечно, приятные воспоминания молодости.
До вашей попытки самосожжения у вас были какие-то «контакты» с КГБ? Может, вами интересовались?
Нет, ничего такого не было. Первым моим пробуждением и первым потрясением для меня стала Шестидневная война. Перед войной целый месяц над Израилем висела угроза со стороны Насера (президент Египта Гамаль Абдель Насер. — Р.Я.). И это было очень грозное время. Я помню, как все мы, и я тоже, испытывали тревогу. Потом произошла Шестидневная война и наступило ошеломление победой. Это воспринималось как чудо. Как избавление от совершенно реальной, очень сильной угрозы.
Как это повлияло на вас?
Я стал интересоваться Израилем, достал самоучитель иврита «Элеф милим» («Тысяча слов». — Р.Я.). Я не был в компании людей, которые изучением иврита очень сильно интересовались, но во всяком случае мне это было любопытно. Уже не помню, как эта книга попала ко мне. Помню, была некая группа людей, которые пытались ухаживать за тем, что было в Румбуле. Там большая братская могила, и они пытались навести порядок. Посадили траву, разбили клумбу. Несколько раз и я бывал в Румбуле в конце 1960-х.
Шестидневная война как-то повлияла на ваше отношение к Советскому Союзу?
Да. Советский Cоюз постоянно проводил клеветническую кампанию против Израиля. И это вызывало ужасную досаду, неприятие. Это был мой первый конфликт в Советском Cоюзе, именно из-за этого. Я просто понял, что советская пресса лжет. Появилось понимание, что все, что говорят, — это ложь и клевета.
Я стал интересоваться Израилем, достал самоучитель иврита «Элеф милим» («Тысяча слов». — Р.Я.). Я не был в компании людей, которые изучением иврита очень сильно интересовались, но во всяком случае мне это было любопытно. Уже не помню, как эта книга попала ко мне. Помню, была некая группа людей, которые пытались ухаживать за тем, что было в Румбуле. Там большая братская могила, и они пытались навести порядок. Посадили траву, разбили клумбу. Несколько раз и я бывал в Румбуле в конце 1960-х.
Шестидневная война как-то повлияла на ваше отношение к Советскому Союзу?
Да. Советский Cоюз постоянно проводил клеветническую кампанию против Израиля. И это вызывало ужасную досаду, неприятие. Это был мой первый конфликт в Советском Cоюзе, именно из-за этого. Я просто понял, что советская пресса лжет. Появилось понимание, что все, что говорят, — это ложь и клевета.
Видео:
О том, что привело к попытке самосожжения
И все же ваша попытка самосожжения —
это радикальный акт. Не каждый готов совершить публичную попытку самоубийства. Вы понимали
это?
Конечно.
Как вам вообще такая мысль в голову пришла?
Что для человека в Советском Союзе означали такие события, как Пражская весна? Это было начало 1968 года. Стали поступать неслыханные новости из Праги. Там вдруг, не меняя социалистического строя, прекратили политические репрессии. Дали людям возможность свободно высказывать свое мнение. Все это было, конечно, в рамках социализма, но тем не менее это были свободные высказывания. Это воспринималось как неслыханное событие, живое чудо. «Голоса» мы слушали уже до этого.
Конечно.
Как вам вообще такая мысль в голову пришла?
Что для человека в Советском Союзе означали такие события, как Пражская весна? Это было начало 1968 года. Стали поступать неслыханные новости из Праги. Там вдруг, не меняя социалистического строя, прекратили политические репрессии. Дали людям возможность свободно высказывать свое мнение. Все это было, конечно, в рамках социализма, но тем не менее это были свободные высказывания. Это воспринималось как неслыханное событие, живое чудо. «Голоса» мы слушали уже до этого.
Когда наступил перелом?
К началу лета 1968 года советское отношение к происходящему стало очень враждебным. Я тогда окончил четвертый курс. У нас, как у всех, была военная кафедра — один день в неделю мы занимались подготовкой на офицеров запаса. После четвертого курса были сборы, как полагалось, на несколько недель. Наша группа студентов оказалась в Калининградской области, мы были прикомандированы к части. Там я увидел настроение в армии: офицеры прямо-таки рвутся в Чехословакию. Тогда у меня было очень пессимистическое отношение к тому, что будет происходить. Уже было понятно, что произойдет что-то очень плохое. И вот, действительно, 21 августа 1968 года эта часть, к которой мы были прикомандированы, ушла в Чехословакию. Нашу группу студентов не взяли, нас просто вернули назад, и мы сидели где-то в Риге, пока все эти события происходили. Читали газеты с бесконечными речами с просьбой о братской помощи.
К началу лета 1968 года советское отношение к происходящему стало очень враждебным. Я тогда окончил четвертый курс. У нас, как у всех, была военная кафедра — один день в неделю мы занимались подготовкой на офицеров запаса. После четвертого курса были сборы, как полагалось, на несколько недель. Наша группа студентов оказалась в Калининградской области, мы были прикомандированы к части. Там я увидел настроение в армии: офицеры прямо-таки рвутся в Чехословакию. Тогда у меня было очень пессимистическое отношение к тому, что будет происходить. Уже было понятно, что произойдет что-то очень плохое. И вот, действительно, 21 августа 1968 года эта часть, к которой мы были прикомандированы, ушла в Чехословакию. Нашу группу студентов не взяли, нас просто вернули назад, и мы сидели где-то в Риге, пока все эти события происходили. Читали газеты с бесконечными речами с просьбой о братской помощи.
Вы понимали, что все офицеры той части,
те, кого вы знали по именам, были там, в Праге?
Вся эта часть была в Праге. Нас просто туда не взяли, совершенно понятно — почему. Не рассчитывали на нашу надежность. Всех вернули домой, в Ригу.
Какое впечатление все это произвело на вас?
Похорон. Я вам скажу так: когда еще летом 68 года вы проходили по улицам Риги, это было потрясающее зрелище. Идете — и видите праздник на каждом лице. Каждое лицо — праздник. И понятно, почему. Латвия была оккупирована в 1940 году. Еще помнили о свободных временах. Именно чехословацкие события вдохнули надежду. А после этого, когда уже все закончилось и вы шли по Риге, — похороны на каждом лице, [лица — как] наглухо закрытые ставни. И я чувствовал то же самое.
Вся эта часть была в Праге. Нас просто туда не взяли, совершенно понятно — почему. Не рассчитывали на нашу надежность. Всех вернули домой, в Ригу.
Какое впечатление все это произвело на вас?
Похорон. Я вам скажу так: когда еще летом 68 года вы проходили по улицам Риги, это было потрясающее зрелище. Идете — и видите праздник на каждом лице. Каждое лицо — праздник. И понятно, почему. Латвия была оккупирована в 1940 году. Еще помнили о свободных временах. Именно чехословацкие события вдохнули надежду. А после этого, когда уже все закончилось и вы шли по Риге, — похороны на каждом лице, [лица — как] наглухо закрытые ставни. И я чувствовал то же самое.
Потом начался пятый курс, мы продолжали
учиться. Все как бы поглотилось внутрь. Но больше всего угнетала абсолютная невозможность как-то
высказать свое отношение к этому. Сказать: «Я не согласен, это не от моего имени делается, я
против этого». Абсолютно ничего невозможно было сделать. Чувство полного бессилия при
бесконечном унижении: оно продолжалось месяцами. На этом фоне я как-то учился, сдавал экзамены,
уже последние по существу. И эти чувства, эта невозможность абсолютно ничего сказать, — все это
взорвалось.
Но был же наверняка какой-то толчок? Возможно, самосожжение чешского студента Яна Палаха?
Во-первых, это произвело огромное впечатление. Если бы была возможность просто сказать: «Я не согласен», это возможно, разрядило бы [настроение]. Но этого ничего не было. Любая форма протеста, в самой мягкой форме, не важно что, — она была бы полностью бесперспективной. И потом, можно понять, насколько велик был страх перед властями. Он был больше, чем страх смерти. Смерть была менее страшна, чем попадание в руки КГБ. В этом смысле я с огромным пиететом отношусь к тем, кто протестовал на Красной площади ( «Демонстрация семерых» 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию. — Rus.LSM.lv.). Они «самосажались», то есть они знали, что в конце этого дня будут в руках КГБ.
Вы понимали, что можете погибнуть?
Наоборот, погибнуть мне казалось менее страшным, чем оказаться в руках КГБ. В этом смысле это был побег. И этот побег не удался — я все-таки остался в живых, и я попал к ним в руки.
Но был же наверняка какой-то толчок? Возможно, самосожжение чешского студента Яна Палаха?
Во-первых, это произвело огромное впечатление. Если бы была возможность просто сказать: «Я не согласен», это возможно, разрядило бы [настроение]. Но этого ничего не было. Любая форма протеста, в самой мягкой форме, не важно что, — она была бы полностью бесперспективной. И потом, можно понять, насколько велик был страх перед властями. Он был больше, чем страх смерти. Смерть была менее страшна, чем попадание в руки КГБ. В этом смысле я с огромным пиететом отношусь к тем, кто протестовал на Красной площади ( «Демонстрация семерых» 25 августа 1968 года против ввода советских войск в Чехословакию. — Rus.LSM.lv.). Они «самосажались», то есть они знали, что в конце этого дня будут в руках КГБ.
Вы понимали, что можете погибнуть?
Наоборот, погибнуть мне казалось менее страшным, чем оказаться в руках КГБ. В этом смысле это был побег. И этот побег не удался — я все-таки остался в живых, и я попал к ним в руки.
Помните день, когда вам пришла мысль
так поступить?
Я не помню конкретно день. Все это время было чувство необыкновенного угнетения. Я не могу сказать, каким был первый момент. Но, конечно, важную роль сыграло и самосожжение Яна Палаха. Тут все было вместе. Это несколько месяцев копилось и в конце концов взорвалось.
Но ведь вы спланировали это, вы заранее подготовились...
Надо было какие-то практические действия предпринимать. Взять плакат, собрать материалы. Я взял взаймы у одной нашей студентки ватник. Сейчас мне от этого очень плохо — ведь я не вернул его. Если бы я мог ее найти... Верочка… Вера Гофштейн, одна из наших однокурсниц. Она никакого отношения к этому не имела. Она была просоветская и то, что я ватник попросил у нее, не компрометировало ее. Потому что она вообще никакого отношения к этому не имела и ни о чем даже не подозревала. Тем не менее я взял и не вернул чужую вещь. Я пытался найти ее через «ВКонтакте», но мне не удалось это сделать. Я должен вернуть, компенсировать ей ватник.
Я не помню конкретно день. Все это время было чувство необыкновенного угнетения. Я не могу сказать, каким был первый момент. Но, конечно, важную роль сыграло и самосожжение Яна Палаха. Тут все было вместе. Это несколько месяцев копилось и в конце концов взорвалось.
Но ведь вы спланировали это, вы заранее подготовились...
Надо было какие-то практические действия предпринимать. Взять плакат, собрать материалы. Я взял взаймы у одной нашей студентки ватник. Сейчас мне от этого очень плохо — ведь я не вернул его. Если бы я мог ее найти... Верочка… Вера Гофштейн, одна из наших однокурсниц. Она никакого отношения к этому не имела. Она была просоветская и то, что я ватник попросил у нее, не компрометировало ее. Потому что она вообще никакого отношения к этому не имела и ни о чем даже не подозревала. Тем не менее я взял и не вернул чужую вещь. Я пытался найти ее через «ВКонтакте», но мне не удалось это сделать. Я должен вернуть, компенсировать ей ватник.
Видео:
О принятии решения, ватнике, который не удалось вернуть
и о самой трудной в жизни вещи
и о самой трудной в жизни вещи
А сам тот день помните, как все
было?
Помню. Нужно было найти какое-то место, чтобы спрятать свои вещи. Это было в углу подвала какого-то дома неподалеку от памятника Свободы. Я все с собой взял, принес бутылку, плакат — он был завернут в бумагу, чтобы никто его не увидел. Я все это взял, надел ватник, облил его внутри сзади бензином и пошел к памятнику Свободы. Как раз это я прекрасно помню. У меня были с собой спички, плакат. Я там встал, и мне надо было сделать самую трудную вещь в жизни — развернуть этот плакат.
То есть даже спичкой чиркнуть не так страшно было?
Вот именно! До этого я мог в любой момент отказаться от замысла, поджать хвост и уйти, и ничего бы не произошло. Но когда я развернул плакат, я был уже по ту сторону, а они по эту, и — все. Действительно, после этого спичкой чиркнуть было гораздо легче, чем развернуть плакат. Это великий страх перед властями, который в конце концов я преодолел, но его надо было преодолевать.
Вспыхнуло пламя. Несколько моментов после этого я не помню. Мне потом рассказывали, что мимо проходила группа моряков, которые меня потушили. Так что ожоги остались небольшие. Часть — на руках, часть — на спине. Языки пламени были сзади.
Шрамы остались?
Нет, все прошло. Тут, на руке, но они почти незаметны. И вот вокруг меня собралась враждебно настроенная толпа. Сегодня я думаю, что не смел ничего им сказать, а те, кто был враждебен, — они говорили.
Вы все это время были в сознании?
За исключением нескольких моментов, когда меня потушили… Я этого не помню, мне просто рассказывали это. Но потом уже был в сознании. Собралась толпа. Вышел человек в штатском, предъявил удостоверение и арестовал меня. Он доставил меня в ведомство охраны общественного порядка, потом меня отвезли в штаб КГБ и лишь затем в тот же день — на Саркандаугаву, в городскую психиатрическую больницу.
Помню. Нужно было найти какое-то место, чтобы спрятать свои вещи. Это было в углу подвала какого-то дома неподалеку от памятника Свободы. Я все с собой взял, принес бутылку, плакат — он был завернут в бумагу, чтобы никто его не увидел. Я все это взял, надел ватник, облил его внутри сзади бензином и пошел к памятнику Свободы. Как раз это я прекрасно помню. У меня были с собой спички, плакат. Я там встал, и мне надо было сделать самую трудную вещь в жизни — развернуть этот плакат.
То есть даже спичкой чиркнуть не так страшно было?
Вот именно! До этого я мог в любой момент отказаться от замысла, поджать хвост и уйти, и ничего бы не произошло. Но когда я развернул плакат, я был уже по ту сторону, а они по эту, и — все. Действительно, после этого спичкой чиркнуть было гораздо легче, чем развернуть плакат. Это великий страх перед властями, который в конце концов я преодолел, но его надо было преодолевать.
Вспыхнуло пламя. Несколько моментов после этого я не помню. Мне потом рассказывали, что мимо проходила группа моряков, которые меня потушили. Так что ожоги остались небольшие. Часть — на руках, часть — на спине. Языки пламени были сзади.
Шрамы остались?
Нет, все прошло. Тут, на руке, но они почти незаметны. И вот вокруг меня собралась враждебно настроенная толпа. Сегодня я думаю, что не смел ничего им сказать, а те, кто был враждебен, — они говорили.
Вы все это время были в сознании?
За исключением нескольких моментов, когда меня потушили… Я этого не помню, мне просто рассказывали это. Но потом уже был в сознании. Собралась толпа. Вышел человек в штатском, предъявил удостоверение и арестовал меня. Он доставил меня в ведомство охраны общественного порядка, потом меня отвезли в штаб КГБ и лишь затем в тот же день — на Саркандаугаву, в городскую психиатрическую больницу.
Получается, что в обычную больницу вас
не отвезли? У вас же были ожоги...
В случае попытки самоубийства им полагалось госпитализировать меня в обычную больницу, они этого не сделали.
В психиатрической больнице меня положили в палату — запертую, конечно. Утром приехали с подписанным ордером на арест, и меня перевели в рижскую тюрьму, где положили в тюремную больницу. Началось следствие. Первое, что их интересовало, — являюсь ли я одиночкой или частью группы. Довольно скоро они поняли, что я был одиночкой.
Затем следствие провело психиатрическую экспертизу. Тогда обо всей этой практике психиатрических преследований я ничего не знал. Но, конечно, пытался, как мог, доказывать свою вменяемость. В частности, я для этого написал математическую статью, научное исследование по математике. Я к тому времени написал несколько статей по математике, и вот теперь — еще одну. Это была, конечно, наивная попытка, как сейчас я понимаю. Потому что все равно мне поставили диагноз «вялотекущая шизофрения». Это очень удобная болезнь, потому что не требуется никаких признаков. Такова была практика.
По многим причинам им было гораздо удобнее послать человека в психиатрическую больницу, чем сажать в тюрьму. Во-первых, нет преступника. Есть больной человек. Нет людей, которые протестуют. Просто псих какой-то, не обращайте внимания. Во-вторых, когда сажают, дают срок. Здесь же — «лечение». Когда оно закончится, никто не знает — зависит от них.
Очень важный момент: психиатрическое лечение тогда могло быть в больнице либо общего, либо специального типа. И это была огромная разница. Специального типа были, во-первых, не в Латвии — в Ленинграде, в Казани. Рассказывали об ужасах, которые там происходили. Там можно было провести много лет и совершенно неизбежно кололи препаратами — аминазином, трифтазином и так далее. Люди, которые прошли через это, необычайно тяжело переносили это «лечение», это была чуть ли не гибель. А для математических способностей это было бы губительно тем более.
И была вторая возможность — больница общего типа. С Божьей помощью, я не знаю, как это произошло, в конце концов так получилось, что мне назначили [лечение в больнице] общего типа, и это было прямо спасение. Меня оставили в Латвии. На Саркандаугаве, на Красной Двине (рижская больница на Александровских высотах. — Rus.LSM.lv.). Там отношение персонала было более чем положительное. Врачи, медсестры — все относились ко мне с огромным сочувствием. Вслух они не могли это сказать, но практически делали все, что могли, чтобы выразить сочувствие.
Речь шла только о таблетках, не давали уколов. Возможно, они даже писали, что давали. Никто не следил за тем, чтобы я их проглатывал. У них и мысли не было о том, что я невменяемый. Они дали мне лучшую палату — самую маленькую, самую тихую, самую удобную. Многое от них не зависело, но то, что они могли, они делали самым наилучшим образом.
Как вам удалось выбраться оттуда?
Время от времени должна была созываться психиатрическая экспертиза. Она, по существу, долгое время не созывалась. Сдвиг произошел благодаря деятельности ныне покойного великого Владимира Буковского. После очередной отсидки он какое-то время находился на свободе, собирал материалы и боролся с методом психиатрических преследований. Он прекрасно осознавал, что через несколько месяцев его снова посадят. В этом я вижу высшее мужество — он прошел через все это и не отступился. Его деятельность оказалась очень успешной. Ему удалось достать истории болезни людей, которые подвергались подобным преследованиям, включая и мой случай. В это время планировалась международная конференция психиатров (Конгресс Всемирной ассоциации психиатров в Мексике. — Р.Я.), и Буковскому удалось туда переправить эти материалы, включая мою историю болезни. Это оказало чудесное воздействие. Все те люди, истории болезни которых ему удалось достать и переслать... у них чудесным образом наступило «улучшение». Созвали психиатрическую экспертизу. И для меня тоже. Приехал сам Лунц из печально известного Института имени Сербского (Даниил Лунц, советский психиатр, один из апологетов политики принудительной госпитализации диссидентов, отвечал в Институте им. Сербского за дела политических заключенных. — Р.Я.). Они побеседовали, после чего пришли к выводу, что меня можно снять с принудительного лечения.
Сколько времени вы провели там?
До суда я ждал полгода. Осенью был суд, я там не присутствовал, потому что в качестве «невменяемого» нет смысла меня держать на процессе. Там был — мои покойные родители сумели его взять — адвокат Ария (Семен Львович Ария, адвокат, который защищал в суде диссидентов. — Р.Я.), он брался за такие дела. В тот момент, когда оказалось, что мне «требуется» именно психиатрическое лечение обычного типа, он, конечно, с этим согласился. Это был лучший выход, на который можно было надеяться. Осенью 1969 года меня перевели в рижскую психиатрическую больницу на Красной Двине.
В случае попытки самоубийства им полагалось госпитализировать меня в обычную больницу, они этого не сделали.
В психиатрической больнице меня положили в палату — запертую, конечно. Утром приехали с подписанным ордером на арест, и меня перевели в рижскую тюрьму, где положили в тюремную больницу. Началось следствие. Первое, что их интересовало, — являюсь ли я одиночкой или частью группы. Довольно скоро они поняли, что я был одиночкой.
Затем следствие провело психиатрическую экспертизу. Тогда обо всей этой практике психиатрических преследований я ничего не знал. Но, конечно, пытался, как мог, доказывать свою вменяемость. В частности, я для этого написал математическую статью, научное исследование по математике. Я к тому времени написал несколько статей по математике, и вот теперь — еще одну. Это была, конечно, наивная попытка, как сейчас я понимаю. Потому что все равно мне поставили диагноз «вялотекущая шизофрения». Это очень удобная болезнь, потому что не требуется никаких признаков. Такова была практика.
По многим причинам им было гораздо удобнее послать человека в психиатрическую больницу, чем сажать в тюрьму. Во-первых, нет преступника. Есть больной человек. Нет людей, которые протестуют. Просто псих какой-то, не обращайте внимания. Во-вторых, когда сажают, дают срок. Здесь же — «лечение». Когда оно закончится, никто не знает — зависит от них.
Очень важный момент: психиатрическое лечение тогда могло быть в больнице либо общего, либо специального типа. И это была огромная разница. Специального типа были, во-первых, не в Латвии — в Ленинграде, в Казани. Рассказывали об ужасах, которые там происходили. Там можно было провести много лет и совершенно неизбежно кололи препаратами — аминазином, трифтазином и так далее. Люди, которые прошли через это, необычайно тяжело переносили это «лечение», это была чуть ли не гибель. А для математических способностей это было бы губительно тем более.
И была вторая возможность — больница общего типа. С Божьей помощью, я не знаю, как это произошло, в конце концов так получилось, что мне назначили [лечение в больнице] общего типа, и это было прямо спасение. Меня оставили в Латвии. На Саркандаугаве, на Красной Двине (рижская больница на Александровских высотах. — Rus.LSM.lv.). Там отношение персонала было более чем положительное. Врачи, медсестры — все относились ко мне с огромным сочувствием. Вслух они не могли это сказать, но практически делали все, что могли, чтобы выразить сочувствие.
Речь шла только о таблетках, не давали уколов. Возможно, они даже писали, что давали. Никто не следил за тем, чтобы я их проглатывал. У них и мысли не было о том, что я невменяемый. Они дали мне лучшую палату — самую маленькую, самую тихую, самую удобную. Многое от них не зависело, но то, что они могли, они делали самым наилучшим образом.
Как вам удалось выбраться оттуда?
Время от времени должна была созываться психиатрическая экспертиза. Она, по существу, долгое время не созывалась. Сдвиг произошел благодаря деятельности ныне покойного великого Владимира Буковского. После очередной отсидки он какое-то время находился на свободе, собирал материалы и боролся с методом психиатрических преследований. Он прекрасно осознавал, что через несколько месяцев его снова посадят. В этом я вижу высшее мужество — он прошел через все это и не отступился. Его деятельность оказалась очень успешной. Ему удалось достать истории болезни людей, которые подвергались подобным преследованиям, включая и мой случай. В это время планировалась международная конференция психиатров (Конгресс Всемирной ассоциации психиатров в Мексике. — Р.Я.), и Буковскому удалось туда переправить эти материалы, включая мою историю болезни. Это оказало чудесное воздействие. Все те люди, истории болезни которых ему удалось достать и переслать... у них чудесным образом наступило «улучшение». Созвали психиатрическую экспертизу. И для меня тоже. Приехал сам Лунц из печально известного Института имени Сербского (Даниил Лунц, советский психиатр, один из апологетов политики принудительной госпитализации диссидентов, отвечал в Институте им. Сербского за дела политических заключенных. — Р.Я.). Они побеседовали, после чего пришли к выводу, что меня можно снять с принудительного лечения.
Сколько времени вы провели там?
До суда я ждал полгода. Осенью был суд, я там не присутствовал, потому что в качестве «невменяемого» нет смысла меня держать на процессе. Там был — мои покойные родители сумели его взять — адвокат Ария (Семен Львович Ария, адвокат, который защищал в суде диссидентов. — Р.Я.), он брался за такие дела. В тот момент, когда оказалось, что мне «требуется» именно психиатрическое лечение обычного типа, он, конечно, с этим согласился. Это был лучший выход, на который можно было надеяться. Осенью 1969 года меня перевели в рижскую психиатрическую больницу на Красной Двине.
Я там провел полтора года. Материалы второй
экспертизы передали в суд, тот снял принудительное лечение, и в тот же день меня выписали из
больницы домой к родителям. Это было весной 1971 года.
Как отреагировали ваши родители на произошедшее?
Как они могли отреагировать? Я же оказался потом под следствием, я никого не видел несколько месяцев после этого. Для них это было необычайно тяжело, трудно представить даже — насколько.
Они вам что-то говорили потом?
Нет. Они просто страдали.
Помните свое возвращение?
Помню. Довольно скоро после моего возвращения родители подали прошение о выезде в Израиль. В первый раз нам отказали. Ответили: «Что вы там себе воображаете — что вас выпустят?» В Америке тогда жил профессор математики Липман Берс родом из Риги, он возглавлял Американское математическое общество. Его отец до войны был директором гимназии, он знал нашу семью, и профессор Берс время от времени приезжал в Советский Союз для встречи с отцом. Рига была «невъездным» городом — они встречались в Москве. Так ему передали материалы по моему делу. Вернувшись в Америку, он организовал петицию, чтобы мне разрешили выезд. Ее подписали крупные математики. К тому времени у меня была опубликована статья в ДАНе («Доклада Академии наук», научный журнал президиума Академии наук СССР. — Р.Я.), и они могли говорить обо мне как о коллеге. Это подействовало чудесным образом. Родителям позвонили из ОВИРа, сказали подать прошение еще раз. По советскому закону должен был пройти срок, прежде чем повторно подавать просьбу. Власти этим правилом пренебрегли. Мы быстро получили положительный ответ и в конце декабря уехали. В первых числах января 1972 года мы оказались в Вене, оттуда вылетели в Израиль.
Как так вышло, что опубликовали мою статью? Она была подана до этого, еще когда я учился на пятом курсе. Статьи в докладах представляют академики. В данном случае ее порекомендовал знакомый моего шефа Бориса Исааковича Плоткина, он сейчас тоже живет в Израиле, а представил академик Петр Сергеевич Новиков.
Мне рассказывали, что, когда вся эта история началась, Новикова вызвали в академию и устроили ему разнос: как так, почему вы не остановили эту статью? Он ответил: «У нас ничего не сообщалось об этом случае. По-вашему, я слушаю Би-би-си»? Так что никакое доброе дело не осталось без влияния, каждое принесло плоды. Опубликованная статья в ДАНе дала возможность американским математикам говорить обо мне, а их вмешательство помогло нам уехать в Израиль.
Как отреагировали ваши родители на произошедшее?
Как они могли отреагировать? Я же оказался потом под следствием, я никого не видел несколько месяцев после этого. Для них это было необычайно тяжело, трудно представить даже — насколько.
Они вам что-то говорили потом?
Нет. Они просто страдали.
Помните свое возвращение?
Помню. Довольно скоро после моего возвращения родители подали прошение о выезде в Израиль. В первый раз нам отказали. Ответили: «Что вы там себе воображаете — что вас выпустят?» В Америке тогда жил профессор математики Липман Берс родом из Риги, он возглавлял Американское математическое общество. Его отец до войны был директором гимназии, он знал нашу семью, и профессор Берс время от времени приезжал в Советский Союз для встречи с отцом. Рига была «невъездным» городом — они встречались в Москве. Так ему передали материалы по моему делу. Вернувшись в Америку, он организовал петицию, чтобы мне разрешили выезд. Ее подписали крупные математики. К тому времени у меня была опубликована статья в ДАНе («Доклада Академии наук», научный журнал президиума Академии наук СССР. — Р.Я.), и они могли говорить обо мне как о коллеге. Это подействовало чудесным образом. Родителям позвонили из ОВИРа, сказали подать прошение еще раз. По советскому закону должен был пройти срок, прежде чем повторно подавать просьбу. Власти этим правилом пренебрегли. Мы быстро получили положительный ответ и в конце декабря уехали. В первых числах января 1972 года мы оказались в Вене, оттуда вылетели в Израиль.
Как так вышло, что опубликовали мою статью? Она была подана до этого, еще когда я учился на пятом курсе. Статьи в докладах представляют академики. В данном случае ее порекомендовал знакомый моего шефа Бориса Исааковича Плоткина, он сейчас тоже живет в Израиле, а представил академик Петр Сергеевич Новиков.
Мне рассказывали, что, когда вся эта история началась, Новикова вызвали в академию и устроили ему разнос: как так, почему вы не остановили эту статью? Он ответил: «У нас ничего не сообщалось об этом случае. По-вашему, я слушаю Би-би-си»? Так что никакое доброе дело не осталось без влияния, каждое принесло плоды. Опубликованная статья в ДАНе дала возможность американским математикам говорить обо мне, а их вмешательство помогло нам уехать в Израиль.
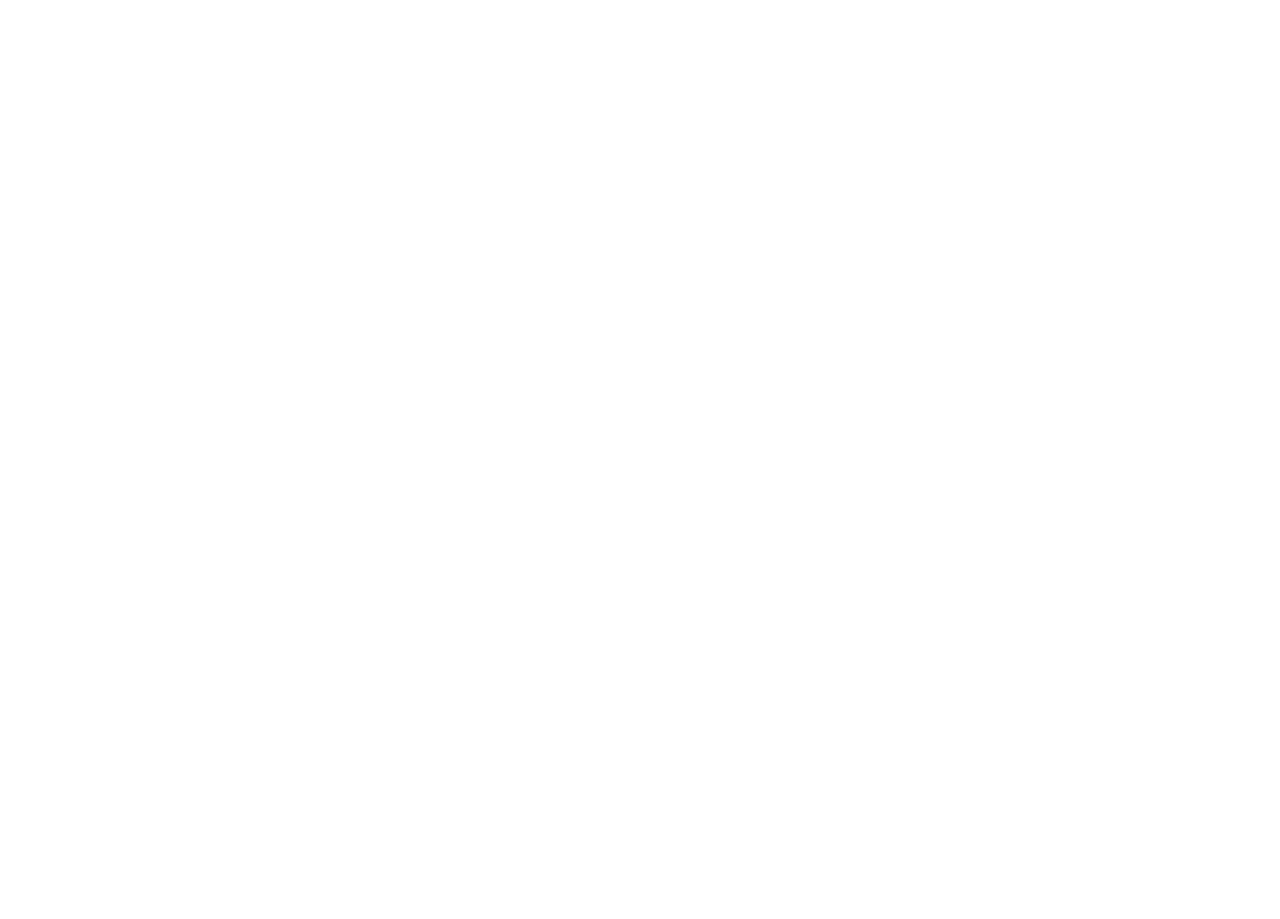
Свадьба (1975 г.).
Снимок предоставлен Элиягу (Ильей) Рипсом.
Снимок предоставлен Элиягу (Ильей) Рипсом.
Как так вышло, что вы, математик, стали
религиозным человеком?
В Советском Cоюзе я получил советское, атеистическое воспитание. Когда я приехал в Израиль, мне было 23 года. Мы прошли курс изучения языка в ульпане (языковая школа. — Р.Я.) в Хайфе, я провел там несколько месяцев. Занятия были очень интенсивными, по 40 часов в неделю. За год в языковой атмосфере пассивный запас перешел в активный, и в конце года я уже говорил на иврите.
Потом я переехал в Иерусалим, подал документы и был принят в докторантуру Еврейского университета, в России это называется аспирантурой. Живя в Иерусалиме, я впервые в жизни увидел религиозных евреев, соблюдающих традиции. В Латвии они, может быть, и были, но я никогда с ними не сталкивался.
В Советском Cоюзе я получил советское, атеистическое воспитание. Когда я приехал в Израиль, мне было 23 года. Мы прошли курс изучения языка в ульпане (языковая школа. — Р.Я.) в Хайфе, я провел там несколько месяцев. Занятия были очень интенсивными, по 40 часов в неделю. За год в языковой атмосфере пассивный запас перешел в активный, и в конце года я уже говорил на иврите.
Потом я переехал в Иерусалим, подал документы и был принят в докторантуру Еврейского университета, в России это называется аспирантурой. Живя в Иерусалиме, я впервые в жизни увидел религиозных евреев, соблюдающих традиции. В Латвии они, может быть, и были, но я никогда с ними не сталкивался.
Видео:
О начале перехода от атеизма к религии
Какое впечатление они на вас
произвели?
Очень странное. Мы изучали курс научного атеизма в [Латвийском] университете. Именно он создал некую трещину — я ожидал, что там будут какие-то солидные доказательства этой позиции, но увидел в основном пропагандистские штампы, которые я уже тогда ненавидел. И после курса осталось ощущение, что тезисы свои они не доказали.
Тогда уже было понятно, что социализм — это тупиковый путь. Возник вопрос: а что было до этого? В прошлом большинство людей были религиозными. Я попытался разобраться, о чем идет речь. Стал слушать отличные лекции раввинов различных направлений — по иудаизму и не только. Еще у меня были встречи с людьми, которые определили мою судьбу. Например, рав Ицхак Зильбер. Летом 1972 года он пригласил меня к себе домой на шабат, и я впервые увидел соблюдение субботы. Когда я жил в Иерусалиме, моим соседом был крупный интеллектуал рав Хаим Липшиц, я слушал и его лекции. И вот в конце 1972 года я обнаружил, что соблюдаю основные мицвот (заповеди. — Р.Я.). На начальном уровне, конечно. Как это произошло, я сам не могу точно сказать.
У вас не возникало ощущения, что есть некоторое противоречие между точными науками и религией?
Тогда я, видимо, был очарован религией. Практическая сторона никогда не была для меня трудной. Ни соблюдение субботы, ни кашрут. Но интеллектуально это действительно вызвало проблему. То, что есть Творец мира, — это ничему научному не противоречит. На каком-то этапе я узнал, что Тора рассказывает о чудесах. О выходе из Египта, о расступившемся море, откровении на горе Синай. Это вызвало большое смущение. Что такое чудо? Это нарушение физических законов. А нас учили, что физические законы постоянно и неуклонно соблюдаются, от них нет никаких отклонений. Если вам кто-то рассказывает, что было отклонение от физических законов, то этого просто не может быть.
Очень странное. Мы изучали курс научного атеизма в [Латвийском] университете. Именно он создал некую трещину — я ожидал, что там будут какие-то солидные доказательства этой позиции, но увидел в основном пропагандистские штампы, которые я уже тогда ненавидел. И после курса осталось ощущение, что тезисы свои они не доказали.
Тогда уже было понятно, что социализм — это тупиковый путь. Возник вопрос: а что было до этого? В прошлом большинство людей были религиозными. Я попытался разобраться, о чем идет речь. Стал слушать отличные лекции раввинов различных направлений — по иудаизму и не только. Еще у меня были встречи с людьми, которые определили мою судьбу. Например, рав Ицхак Зильбер. Летом 1972 года он пригласил меня к себе домой на шабат, и я впервые увидел соблюдение субботы. Когда я жил в Иерусалиме, моим соседом был крупный интеллектуал рав Хаим Липшиц, я слушал и его лекции. И вот в конце 1972 года я обнаружил, что соблюдаю основные мицвот (заповеди. — Р.Я.). На начальном уровне, конечно. Как это произошло, я сам не могу точно сказать.
У вас не возникало ощущения, что есть некоторое противоречие между точными науками и религией?
Тогда я, видимо, был очарован религией. Практическая сторона никогда не была для меня трудной. Ни соблюдение субботы, ни кашрут. Но интеллектуально это действительно вызвало проблему. То, что есть Творец мира, — это ничему научному не противоречит. На каком-то этапе я узнал, что Тора рассказывает о чудесах. О выходе из Египта, о расступившемся море, откровении на горе Синай. Это вызвало большое смущение. Что такое чудо? Это нарушение физических законов. А нас учили, что физические законы постоянно и неуклонно соблюдаются, от них нет никаких отклонений. Если вам кто-то рассказывает, что было отклонение от физических законов, то этого просто не может быть.
Видео:
О непротиворечивости науки и религии
Как вы для себя разрешили это
противоречие?
Чуть ли не месяц я над этим очень интенсивно и чуть ли не мучительно думал. Итак, наличие Творца не противоречит научным знаниям. Если мир создан Творцом, который дал эти законы, то Он стоит над миром и этими законами. Значит, если Он того пожелает, Он может прекратить их действие, а затем вернуть их. И тогда нет логического противоречия. Чудеса — это вмешательство сверху божественной воли. Я понимал это и в самом начале размышлений, но мне это казалось натяжкой, надуманным объяснением. Потом я понял, что это не натяжка, а реальное объяснение. И тогда вздохнул с облегчением. Это не доказывает, что чудеса были. Но это доказывает, что нет их логической невозможности.
Тогда я задал себе следующий вопрос: существуют ли реально в этом мире какие-то конкретные свидетельства таких чудес? Я занялся их поиском. Ну хорошо, находили, например, остатки Ноева ковчега на горе Арарат. Но это мало что доказывает.
Это определило мое дальнейшее занятие. Идея была такая: искать свидетельства о чудесах в тексте, который нам об этом рассказывает. Я пришел к выводу, что следует искать то, что теперь называется «коды Торы».
Чуть ли не месяц я над этим очень интенсивно и чуть ли не мучительно думал. Итак, наличие Творца не противоречит научным знаниям. Если мир создан Творцом, который дал эти законы, то Он стоит над миром и этими законами. Значит, если Он того пожелает, Он может прекратить их действие, а затем вернуть их. И тогда нет логического противоречия. Чудеса — это вмешательство сверху божественной воли. Я понимал это и в самом начале размышлений, но мне это казалось натяжкой, надуманным объяснением. Потом я понял, что это не натяжка, а реальное объяснение. И тогда вздохнул с облегчением. Это не доказывает, что чудеса были. Но это доказывает, что нет их логической невозможности.
Тогда я задал себе следующий вопрос: существуют ли реально в этом мире какие-то конкретные свидетельства таких чудес? Я занялся их поиском. Ну хорошо, находили, например, остатки Ноева ковчега на горе Арарат. Но это мало что доказывает.
Это определило мое дальнейшее занятие. Идея была такая: искать свидетельства о чудесах в тексте, который нам об этом рассказывает. Я пришел к выводу, что следует искать то, что теперь называется «коды Торы».
Имеется способ, при помощи которого можно
искать некий закодированный текст внутри Торы. Сейчас объясню свой метод. Я приведу пример,
который мне близок по очень многим причинам. Ян Палах, чешский студент, который в январе 1969
года совершил самосожжение в знак протеста против оккупации Чехословакии. Он скончался через три
дня после ожогов, и его похороны были первым крупным выступлением в Чехословакии против
оккупации.
Видео:
О предсказании самосожжения чешского студента в 1969 году
и объяснение метода
и объяснение метода
Я просто взял транслитерацию имени Ян Палах
ивритскими буквами и сделал вещь, которая, возможно, покажется странной. В тексте Торы с помощью
компьютера — без него это невозможно — я стал искать имя через равные промежутки букв. Без
пробелов, только сами буквы — текст как одна последовательность из букв (традиционно при
копировании свитков Торы недопустимо делать ошибки или исправления; неидеальные священные
тексты непригодны к использованию. — Р.Я.).
Чем длиннее слово, тем маловероятнее его найти. Хотя то, что само искомое слово найдется, — это все-таки вполне статистически возможно. Оказалось, что шаг — 6349. От первой буквы его имени на иврите, «йуд», через 6349 символов получаем вторую букву, «алеф», еще раз через столько же символов — «нун», и так целиком собирается его имя. Таких случаев во всем тексте всего два.
В любом тексте такой длины статистически вы могли бы подобное найти — что с одним шагом встречается слово из семи букв. Это вполне возможно. Я построил таблицу. В каждой ее строке 6349 букв. Эта строка получается очень длинной, поэтому я покажу только ее часть в том месте, где таблица определяется сочетанием «Ян Палах».
Чем длиннее слово, тем маловероятнее его найти. Хотя то, что само искомое слово найдется, — это все-таки вполне статистически возможно. Оказалось, что шаг — 6349. От первой буквы его имени на иврите, «йуд», через 6349 символов получаем вторую букву, «алеф», еще раз через столько же символов — «нун», и так целиком собирается его имя. Таких случаев во всем тексте всего два.
В любом тексте такой длины статистически вы могли бы подобное найти — что с одним шагом встречается слово из семи букв. Это вполне возможно. Я построил таблицу. В каждой ее строке 6349 букв. Эта строка получается очень длинной, поэтому я покажу только ее часть в том месте, где таблица определяется сочетанием «Ян Палах».
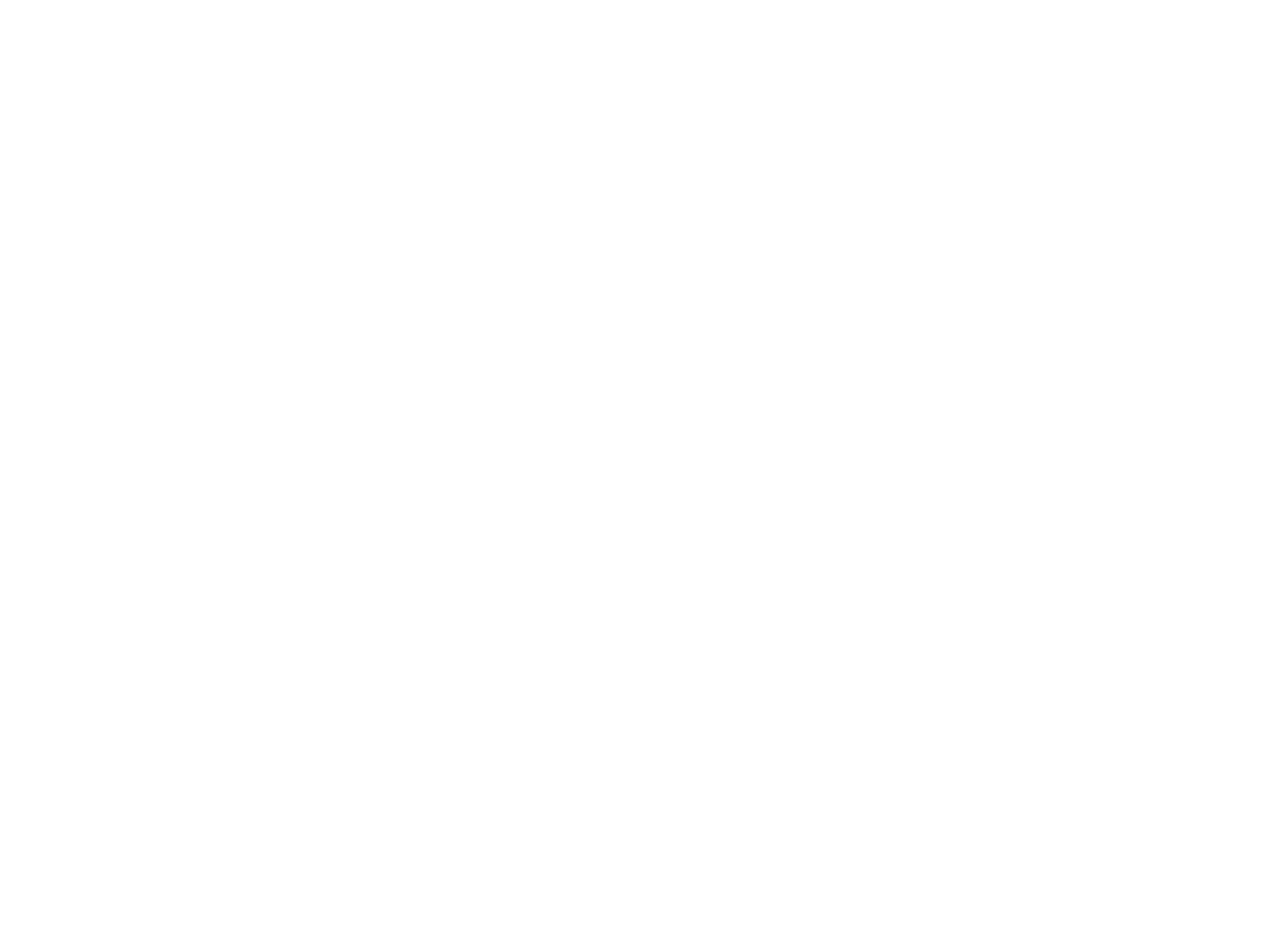
Смотрите, во-первых, вы здесь рядом увидите
слово «чехи» и продолжение через равные промежутки — «йитабед», то есть «покончит жизнь
самоубийством». Здесь еще написано «зажжет огонь». Здесь же мы видим слово «протест» и «против
оккупантов».
Получается, что эта история кратко написана совершенно внятно в тексте по таблице, созданной по имени «Ян Палах». Вокруг него организовалась таблица.
У вас есть какие-то другие подобные примеры?
Я могу вам привести тысячи других примеров. Тут я привел этот, потому что он по теме нашей беседы. Можно оценивать, насколько маловероятно, что это произошло случайно.
Вы проверяли эту теорию с другими текстами аналогичной длины? Например, взять текст «Войны и мира», удалить пробелы и поискать совпадение букв «Ян Палах»...
Само сочетание «Ян Палах» статистически обязано появиться, но нет никаких шансов, что вокруг него появится какой-то осмысленный контекст.
Здесь зашифрованы какие-то исторические события?
Я не знаю. Для меня это загадка. Есть сотни и тысячи примеров. Что это такое на самом деле — можно выяснить только при широкомасштабном исследовании. Я же это делаю как любитель. Несомненно, что текст содержит такую информацию, но полной структуры никто не знает.
Никто не занимался этим всерьез?
Я занимался этим всерьез как математик. Еще несколько моих друзей. Но выйти на более широкую аудиторию пока не получается.
Получается, что эта история кратко написана совершенно внятно в тексте по таблице, созданной по имени «Ян Палах». Вокруг него организовалась таблица.
У вас есть какие-то другие подобные примеры?
Я могу вам привести тысячи других примеров. Тут я привел этот, потому что он по теме нашей беседы. Можно оценивать, насколько маловероятно, что это произошло случайно.
Вы проверяли эту теорию с другими текстами аналогичной длины? Например, взять текст «Войны и мира», удалить пробелы и поискать совпадение букв «Ян Палах»...
Само сочетание «Ян Палах» статистически обязано появиться, но нет никаких шансов, что вокруг него появится какой-то осмысленный контекст.
Здесь зашифрованы какие-то исторические события?
Я не знаю. Для меня это загадка. Есть сотни и тысячи примеров. Что это такое на самом деле — можно выяснить только при широкомасштабном исследовании. Я же это делаю как любитель. Несомненно, что текст содержит такую информацию, но полной структуры никто не знает.
Никто не занимался этим всерьез?
Я занимался этим всерьез как математик. Еще несколько моих друзей. Но выйти на более широкую аудиторию пока не получается.
Известна история, что кто-то из ваших
знакомых связался с Ицхаком Рабином, премьер-министром Израиля, который был застрелен в
ноябре 1995 года, незадолго до его смерти и пытался его предупредить.
Эта история разворачивалась на моих глазах. Весной 1994 года я был приглашенным профессором в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Со мной связался американский журналист, еврей, ныне покойный Майкл Дрознин. Он тогда заинтересовался этим и показал мне таблицу, [которую он составил,] взяв за основу имя «Ицхак Рабин». Оно встречается в тексте всего один раз и проходит в контексте «ха-роцеах шейирцах» («его убьет убийца»). Майкл мне сказал тогда, что подозревает: речь идет о возможном убийстве Ицхака Рабина. Я тогда выражал сомнения в том, что он прав. Слова «убийство» и «Рабин» связаны, но означает ли это, что Рабин будет убит?
Эта история разворачивалась на моих глазах. Весной 1994 года я был приглашенным профессором в Колумбийском университете в Нью-Йорке. Со мной связался американский журналист, еврей, ныне покойный Майкл Дрознин. Он тогда заинтересовался этим и показал мне таблицу, [которую он составил,] взяв за основу имя «Ицхак Рабин». Оно встречается в тексте всего один раз и проходит в контексте «ха-роцеах шейирцах» («его убьет убийца»). Майкл мне сказал тогда, что подозревает: речь идет о возможном убийстве Ицхака Рабина. Я тогда выражал сомнения в том, что он прав. Слова «убийство» и «Рабин» связаны, но означает ли это, что Рабин будет убит?
Видео:
О предсказании убийства премьера Израиля
Майкл Дрознин, человек активный, написал письма
израильским спецслужбам и самому Рабину. Он был уверен, что его письмо выбросят в мусорную
корзину. Тогда он вышел на друга детства Рабина, поэта Хаима Гури, написал ему письмо. Потом
прилетел в Израиль, встретился с Гури и убедил его пойти с этим письмом к Рабину. То есть —
письмо это дошло. Что с ним сделали, я не знаю. Через полтора года поздней осенью 1995 года
Рабин был убит. После этого Майкл Дрознин написал книгу о «библейском коде», так он называл его.
Центральным ее эпизодом была правдивая история, как он, Дрознин, весной 1994 года увидел в кодах
вероятность убийства Рабина.
Были еще какие-то подобные истории?
Возможно, что-то, что еще не случилось?
Были. Вот таблица, которая была создана встречей двух слов — «пигуа» («теракт». — Р.Я.) и «Бин-Ладен». Мы составили ее в 2002 году. Это не первое упоминание в тексте, но здесь мы видим словосочетание «башни-близнецы». Каждый шаг в данном случае — 3805 букв, то есть в каждой строке 3805 букв. Буквально написано: «Бин-Ладен убивает тысячи людей».
Мой друг Игорь Писецкий нашел здесь еще одно выражение — «ха-носаф», то есть «дополнительный теракт». Далее по тексту: «Во время», и дата по еврейскому календарю, 5764 год, — это 2004 год. «Омрачит элуль». Элуль — последний месяц еврейского года, выпадает на август-сентябрь. Это таблица, которую сформировали за два года до этого, в 2002 году.
Были. Вот таблица, которая была создана встречей двух слов — «пигуа» («теракт». — Р.Я.) и «Бин-Ладен». Мы составили ее в 2002 году. Это не первое упоминание в тексте, но здесь мы видим словосочетание «башни-близнецы». Каждый шаг в данном случае — 3805 букв, то есть в каждой строке 3805 букв. Буквально написано: «Бин-Ладен убивает тысячи людей».
Мой друг Игорь Писецкий нашел здесь еще одно выражение — «ха-носаф», то есть «дополнительный теракт». Далее по тексту: «Во время», и дата по еврейскому календарю, 5764 год, — это 2004 год. «Омрачит элуль». Элуль — последний месяц еврейского года, выпадает на август-сентябрь. Это таблица, которую сформировали за два года до этого, в 2002 году.
А что произошло в 2004
году?
Теракт в Беслане 1 сентября 2004 года. Террористы захватили школу, у них было больше тысячи заложников. Штурм привел к большому количеству жертв. До самого события мы не имели никаких подробностей и думали, что это произойдет в Америке. Оказалось, что действительно в указанное время — в сентябре 2004 года — произошел крупномасштабный теракт, но в другом месте. Это просто поразительно, у меня нет объяснения этому.
Теракт в Беслане 1 сентября 2004 года. Террористы захватили школу, у них было больше тысячи заложников. Штурм привел к большому количеству жертв. До самого события мы не имели никаких подробностей и думали, что это произойдет в Америке. Оказалось, что действительно в указанное время — в сентябре 2004 года — произошел крупномасштабный теракт, но в другом месте. Это просто поразительно, у меня нет объяснения этому.
Вы прожили долгую жизнь, богатую
событиями, жили в разных странах. В какую сторону, на ваш взгляд, сейчас меняется наш
мир?
Если бы вы спросили меня раньше, я бы попытался что-то ответить. А сейчас могу только сказать, что я ничего не знаю. Слишком сложная ситуация. Я осознал неадекватность прогнозов. В мире столько противоположных тенденций, что совершенно непонятно, что будет дальше.
Если бы вы спросили меня раньше, я бы попытался что-то ответить. А сейчас могу только сказать, что я ничего не знаю. Слишком сложная ситуация. Я осознал неадекватность прогнозов. В мире столько противоположных тенденций, что совершенно непонятно, что будет дальше.
Видео:
О теракте o Беслане
Вы следите за тем, что происходит в
Латвии?
Какое-то время следил, я все-таки понимал латышский язык. Особенно мне помогло в этом пребывание в тюрьме, там я по-настоящему начал говорить по-латышски. И сейчас еще читаю на нем. Мне надо провести два месяца в языковой среде, и я снова смогу говорить. Я все понимаю, но мне приходится вспоминать слова. А с чтением нет затруднений. Латвийские новости не читаю, потому что перестал интересоваться новостями вообще. Максимум — смотрю на заголовки, но сил не остается на то, чтобы читать статьи.
Что вы думаете о происходящем в Латвии в контексте обращения государства с историей? Правомерно ли уравнивание нацизма и коммунизма, что так или иначе делается во всей Восточной Европе? Получается, что ваша семья пострадала от обоих.
С точки зрения тоталитарной идеологии коммунизм и нацизм — это братья, сиамские близнецы. Конечно, были огромные нюансы: при коммунизме еврей мог жить, при нацизме погибал. В этом смысле я бы порекомендовал книгу знаменитого историка Пола Джонсона, краткий курс истории. Когда я читал его книги, я в основном соглашался с тем, что он говорит.
Какой вам в целом видится сегодняшняя Восточная Европа? Куда идет?
Подробной информации я не имею. Главное, что все они обрели независимость. Во всяком случае, каждая страна имеет правительство, которое действительно было избрано народом. Чего же больше?
Какое-то время следил, я все-таки понимал латышский язык. Особенно мне помогло в этом пребывание в тюрьме, там я по-настоящему начал говорить по-латышски. И сейчас еще читаю на нем. Мне надо провести два месяца в языковой среде, и я снова смогу говорить. Я все понимаю, но мне приходится вспоминать слова. А с чтением нет затруднений. Латвийские новости не читаю, потому что перестал интересоваться новостями вообще. Максимум — смотрю на заголовки, но сил не остается на то, чтобы читать статьи.
Что вы думаете о происходящем в Латвии в контексте обращения государства с историей? Правомерно ли уравнивание нацизма и коммунизма, что так или иначе делается во всей Восточной Европе? Получается, что ваша семья пострадала от обоих.
С точки зрения тоталитарной идеологии коммунизм и нацизм — это братья, сиамские близнецы. Конечно, были огромные нюансы: при коммунизме еврей мог жить, при нацизме погибал. В этом смысле я бы порекомендовал книгу знаменитого историка Пола Джонсона, краткий курс истории. Когда я читал его книги, я в основном соглашался с тем, что он говорит.
Какой вам в целом видится сегодняшняя Восточная Европа? Куда идет?
Подробной информации я не имею. Главное, что все они обрели независимость. Во всяком случае, каждая страна имеет правительство, которое действительно было избрано народом. Чего же больше?
Текст, видео и фото: Роман ЯНУШЕВСКИЙ, израильский журналист
Продюсер проекта: Александр КРАСНИТСКИЙ, Rus.LSM.lv
Дизайн: Артур АНДЕРСОН, LSM.lv
Монтаж видео: Эдмунд ХЕНРИЦИ, LTV
• Использованы отдельные кадры 1967-1971 годов из киножурналов Padomju Latvija и документального фильма Manas Dzimtenes atslēgas, а также фотографии AFP, Reuters и imago /modules/stories/img/ilja_ripss_rus/Xinhua.